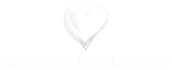Историк, доктор исторических наук Ольга Никонова изучает, как меняется со сменой поколений и эпох память о войне. Что происходит, когда уходят живые свидетели событий? Кто и как формирует образ войны?

Я была молодым историком, писала книгу об ОСОАВИАХИМе и вышла на тему «Женщина на войне». В Красной Армии, по разным подсчетам, было от 800 тысяч до одного миллиона женщин — больше, чем в любой из воевавших армий: летчицы, разведчицы, медсестры, связистки...
Среди источников, которые я использовала, были воспоминания женщин, опубликованные в книге Светланы Алексиевич и каталоге выставки «Маша+Нина+Катюша — женщины в Красной Армии в 1941—1945 гг.», организованной Немецко-русским музеем «Берлин — Карлсхорст» в 2002—2003 годах.
Один документ из того каталога я запомнила на всю жизнь. Это история хрестоматийная, достаточно широко известна. Речь шла о женщине, которая родила ребенка в партизанском отряде. Немцы устроили облаву. Партизаны зашли в болото и спрятались, стояли по грудь в воде. Голодный ребенок заплакал. Командир отряда ничего не сказал — просто посмотрел на мать. И молодая женщина утопила новорожденного ребенка своими руками.
Этот сюжет для меня воплощает один из центральных образов войны, очень эмоциональных. Я без слез не могу об этом думать. Сколько бы лет ни прошло.
Что происходит с исторической памятью, когда само событие уходит все дальше и дальше в прошлое?
Пока живы свидетели событий, существует и коммуникативная память. О событиях рассказывают от первого лица те, кто был очевидцем. Когда поколение живых свидетелей уходит, память перетекает в остывшую форму и живет по другим законам. Это естественный и закономерный процесс.
Остывшую форму в научной литературе называют культурной памятью. Она приобретает четкие формы — складываются образы и трактовки событий, людей, поступков. Появляются книги, фильмы, песни, монументы, мемуары — они становятся «местами памяти». Именно культурная память оперирует идеями, которые удобны для их усвоения массовым сознанием.
Любой профессионал, который работает с массовым сознанием — политик, социолог, маркетолог — знает, что простые и четкие идейные конструкции усваиваются гораздо проще.
Любой лозунг, любая реклама ориентирована на массового потребителя, поэтому упрощает и реальность, и прошлое.
Так одна идея, один тезис становится главным, а остальные считаются неважными — чтобы не усложняли картину. Чем сложнее картина, тем она интереснее для профессионала и неудобнее для политика.
То же происходит и с культурной памятью. Есть доминирующие образцы толкования события, и есть так называемые субдискурсы.
Если речь о войне — это память разных групп: евреев, депортированных немцев и трудармейцев из Средней Азии, жителей оккупированных территорий, остарбайтеров, женщин, детей, блокадников... У каждого будут свои трактовки войны, и они не всегда совпадают с доминирующей концепцией.
Официальный вариант памяти о войнах — всегда очень героический. Это касается всех стран-победителей.
У нас после распада СССР Великая Отечественная война осталась практически единственным сюжетом, по которому в обществе было и остается единение. Это факт, подтвержденный социологами. Память о войне особенно важна для России, потому что она рассматривалась как основа идентичности россиян.
Итак, что получилось? Война стала очень абстрактной, очень далекой.
Для большинства она становится неким историческим событием, с которым теряется эмоциональный контакт. Боль, страдания и смерть уступают место в нарративе героизму и подвигам.
Можно ли в таком случае сохранить в памяти полифонизм, многообразие и человеческое измерение? Представляется, что один из путей — это антропологизация памяти о войне. Когда в 1965 году в Советском Союзе День Победы впервые был объявлен выходным днем и начала формироваться помпезная культура памяти, — параллельно формировалась и альтернативная культура памяти. Антропологическая.
Появились «Блокадный дневник» Даниила Гранина, кинофильмы «Белорусский вокзал» и «А зори здесь тихие». Потрясающий по своей силе фильм Элема Климова «Иди и смотри». Произведения искусства, которые рассказывают о войне не пафосно, честно и очень пронзительно.
Мне кажется очень интересным еще один советский сюжет. В послевоенном СССР, в 1960-80-е годы память о войне была важным обоснованием лозунга борьбы за мир.
Помните, был Комитет защиты мира? Дети писали письма за мир, взрослые жертвовали деньги в Фонд мира. Голубь Пабло Пикассо был известен каждому. Мир был смыслом победы.
Очень важным мне кажется призыв, который содержался в этом движении за мир — гуманистический. Потому что, когда мы говорим и чувствуем, что война — это смерть и страдания, а не только победа и праздник — это понимание составляет наш человеческий стержень. Наш гуманизм. Человечность. Такой же гуманистический посыл транслировала идея «Бессмертного полка», который в 2012 году придумали журналисты в Томске. Как только из коллективной памяти о войне исчезает человек — исчезает эмпатия, эмоциональный контакт с событиями 80-летней давности.
Мы стерилизуем историю до степени «это история не про меня».
Сегодня антропологическое измерение памяти о войне продолжает жить в публикациях военных дневников и воспоминаний, в лучших образцах современных фильмов о войне, в разговорах о погибших в День Победы и школьных сочинениях о военных судьбах прадедов и прабабушек.
Это очень важное и хрупкое измерение памяти, которое необходимо беречь. Завершить хочется цитатой из Владимира Высоцкого:
Зарыты в нашу память на века
И даты, и события, и лица,
А память — как колодец глубока.
Попробуй заглянуть — наверняка
Лицо — и то — неясно отразится.
Разглядеть, что истинно, что ложно
Может только беспристрастный суд:
Осторожно с прошлым, осторожно —
Не разбейте глиняный сосуд!